Рассказы о михее "как дядька михей в женскую баню ходил". Длииииный рассказ про баню Рассказ про баню зимой с женой
СЛУЖИЛА Вера в бане. Продавала в окошечко розовые билеты и, кому надо, мыло, мочалку, веник.
И мать Веры, Настасья, тоже когда-то служила в бане. Это у них семейное было. Жила Вера с матерью на главной улице райцентра. Домик их наивно глазел на проезжую и прохожую часть тремя маленькими окошками, заставленными геранями. Многим казалось, что мужики чаще, чем на другие, заглядывались на эти окошки. Ну, да это неизбежно при одиноком бабьем житье. Никто не помнил, откуда у Настасьи в свое время появилась Вера, никто не заметил, как она стала взрослой. И теперь каждого проходившего мимо мужика людская молва заводила к ней в избу. Неизвестно, сколько в этой молве было правды, сколько выдумки, рожденной бабьей ревностью, у которой, как и у страха, глаза велики.
Были мать с дочерью похожи как две капли. И,взглянув на Веру, можно было представить, какой была Настасья двадцать пять лет назад. И по мере того, как Настасьины годочки катились к закату, Вера тоже входила в пору бабьего лета, постепенно переставая быть предметом мужского интереса, а стало быть, и женского опасения. В селе подрастали новые объекты бабьих пересудов — это место, как известно, пусто не бывает.
В бане Вера была хорошей хозяйкой. Обихаживала поздней ночью, после длинного помывочного дня, два общих отделения — мужское и женское, две парилки, и два «нумера» - отдельные кабинки с ваннами. Кабинки, к слову сказать, были холодные и неуютные, но в них, как ни странно, все же ходили, особенно приехавшие по распределению специалисты. Им было дико при всем честном народе, при потенциальных клиентах и пациентах, оголяться и полоскаться в оцинкованном тазике, в котором до тебя кто только не мылся. В нумере, в ванне, правда, тоже, но все-таки не столько.
Им не понять было всей прелести общего мытия, этого нетерпения и радости, с которой все село устремлялось в баню по субботам.
Большая серая каменная баня стояла на окраине, у самого леса. Дорога к ней пролегала через низинку, поросшую чернопалками, поэтому деревянные тротуары пришлось поднять на сваи. И вот этой тропой с утра в субботу, чем дальше к вечеру, тем гуще, двигался людской поток. С ребятишками. С сумками и корзинами, где на всю семью уложено чистое белье, в реке полосканное, на ветру просушенное - сама свежесть.
Нет, не понять было всего этого залетным городским специалистам. Для нас же это был ритуал, священнодействие, высшее наслаждение.
Вот ты все в своем доме помыл, начистил и протер. Последним взглядом блистающую чистотой комнату окинул и удостоверился, что единственный немытый предмет в ней — это ты сам. И побрел — на полусогнутых, по трапам на сваях, может статься, и в дождь, и в пургу — неважно, побрел в баню, каждой клеткой ощущая единственное желание — скорее окунуться в белый пар, пахнущий и березовым листом, и пихтовой лапой, и шампунем, и немного уксусом...
И ухватить свободный тазик, и пристроиться где-нибудь на широкой деревянной скамье, гладкой и отмытой добела, если повезет — в уголочке, а не повезет — и так хорошо, много ли голому человеку надо, в тепле, в пару, среди неспешно двигающихся таких же голых, розовых, разнеженных тел. Вот этот тазик, малая толика скамейки, чтобы разложить на клееночке мыло-мочалку,— вот и все, что тебе нужно для полного счастья, намывайся себе, плещи воду, сколько хочешь— вон кран, не на колодец идти.
Ополоснувшись первой водой, притерпевшись к жару, придышавшись, начинаешь различать тех, кто рядом. Сунешь намыленную мочалку тому, кто поближе — потри, дескать. Без звука тут же так надраят подставленную спину — не чувствуешь ее, будто смыли вместе с пеной. Потом так же молча примешь соседскую мочалку и постараешься в ответ на чужой спине. В бане все равны. Райповский грузчик вполне мог потереть спинку первому секретарю, ничего страшного. А потом он, секретарь, грузчику. Баня есть баня. Тут удостоверение некуда положить.
Содрав первый слой, можешь заглянуть в парилку. Если веника у тебя нет, ничего, кто-нибудь даст похлестаться.
В то время как-то не боялись заразы. От бани шло ощущение такой чистоты и свежести, что никому и в голову не приходило брезговать чужим веником.
В парной обстановка была еще более доверительная. Там, пока цедится из крана тебе в тазик, кто-нибудь шепнет на ухо под шум воды: «Посмотри-ка на Зину-то, вся в синячищах, опять, видно, пропойца-то хазил...»
По другим известным признакам все помывочное отделение безошибочно делало, к примеру, и такой вывод: ходила, голубушка, «на второй этаж», так у нас называли женское отделение больницы. В бане ты гол, открыт, беззащитен... Но именно поэтому тебе тут нечего бояться, тебя тут только пожалеют. Нигде, ни при каком еще скоплении такого народу не бывает столько доброты и участия людей друг к другу, как в бане. И потрут, и веником похлещут, и ребятенка подержат, пока воду в тазике меняешь. Тепло потому что, наверное. И бежит, бежит теплая вода. Мыльные потоки устремляются в зарешеченную дырку в полу и исчезают там, вместе с накопившимся за неделю раздражением, болями и обидами.
Вообще-то я рановато заскочила прямо в помывочное отделение, потому что так скоро, прямо с трапа на сваях, туда попасть можно далеко не всегда, разве что рано утром, а к вечеру, после того, как ты все постирал, почистил, вытряс и помыл, кроме себя, там как раз и самый народ. Он, народ, тоже к этому времени все постирал и помыл. И потому в предбаннике битком. Все скамейки заняты, люди стоят и вдоль стен, и у самой двери — очередь.
Но кто сказал, что это очень уж плохо. Клуб и баня — вот, пожалуй, два места, где в селе собирались люди все вместе. Еще в березовом парке на «Праздник цветов» летом, раз в году. Ну, еще очереди в магазин иногда собирали пол-села. Но разве можно было сравнить эти две очереди — в баню и в магазин. Та, вторая, шумящая, раздраженная, спешащая — а вдруг не хватит, а дома скотина еще не кормлена, и картошка не начищена, и ребятишки неизвестно, где... А эта, первая, — разморенная в тепле, никуда не бегущая — куда бежать-то, все помыто, постирано, ребятишки к боку прикорнули, пригрелись, завтра выходной. И только жу-жу-жу, жужжит в тесноте да не в обиде негромкий разговор — все-то новости в баню сошлись, всем сейчас заодно и косточки перемоют.
Дверь то и дело отворяется, вместе с клубами пара возникает еще чья-то фигура, жу-жу-жу на минутку смолкает, потом запускается снова.
Оживление вызывает какая-нибудь пара молодых специалистов, которая не включается в посиделки, а отправляется прямиком в нумер. Нумер — это отдельная кабинка с ванной, душем и унитазом. Потолки в самой бане и, стало быть, в предбаннике высокие, а кабинка отгорожена от предбанника дощатой стенкой, не доходящей до потолка чуть не на метр. Молодым кажется, что, закрыв за собой дверь на шпингалет, они отгородились от всего мира, от этой необразованной деревенской публики, которая любит купаться стадом в одном тазике.
Публике же слышно абсолютно все. Как звякает брючный ремень, как из кармана покатились монетки, как щелкают всякие там застежки, как шуршит мочалка о края ванны, которую молодая старательно трет, прежде чем наливать воду, не доверяя чистоплотности банщицы, которая еще с вечера все тут намыла.
По мере согревания в тесной теплой ванне молодые и вовсе начинают забываться. И притихшая очередь со вниманием слушает, как они там возятся, хихикают и повизгивают. В это время даже про новости как-то забывают. Но — положенный за пятьдесят копеек час мытия истекает быстро.
Банщица подходит к дверке и тихонько стучит: «Заканчивайте, время вышло!..»
Возвращенные с высот уединенного блаженства в суровую сельскую действительность в лице предбанника, полного пациентов и клиентов, они выходят, пряча глаза, и поспешно скрываются за дверью. Очередь провожает их взглядами не без сожаления. Но — опять всплывает какая-нибудь тема, и опять потек разговор.
Стоит ли говорить, как нравилась Вере ее работа. Вот она сидит у себя в загородке с окошечком, билеты у нее наготове. И все к ней идут. Начальники, подчиненные, бедные, богатые, злые, добрые, болтливые, молчаливые, женатые, разведенные — всем надо в баню. И два дня — в субботу и воскресенье — у Веры праздник души. И всех она повидает, и все про всех она узнает, и насмотрится, и наслушается. И всем нужна. Кто лимонаду погреть попросит, кому ребеночка намытого, разморенного и орущего подержать, пока мать одевается, санки вынести, матрасик постелить. Опять же время засечь, чтобы интеллигенцию оповестить, что час у них уже прошел. И всех-то Вера знает, знает даже, когда кто в баню приходит. «Николаевы-то сегодня еще не были, а уж должны бы», — скажет она, посмотрев на часы, когда в разговоре вдруг случится пауза. И все вспомнят про Николаевых, и разговор опять зажужжал. Хорошо...
Так от субботы до субботы протекала Верина жизнь. На народе она как-то не чувствовала своего одиночества. Хотя со стороны глядя, Веру было жаль. У старой Настасьи на склоне лет есть кому стакан воды подать, а у Веры — бабий век короток — ребеночка так и не случилось, с кем останется, когда Настасья...
И тут произошло событие, которое повернуло Верину жизнь по-другому.
В селе появился новый специалист. Не молодой, правда, видно, что не после института, а после чего и почему именно в наше село он явился, никто толком не знал. Он устроился в местной редакции, и скоро его толковые статьи уже приметили здешние читатели. Пожил он недели две в доме приезжих, а потом его начальник привел в дом к Настасье и попросил взять в квартиранты — у Настасьи, бывало, и раньше живали постояльцы.
Месяц прошел, другой. И вот село ахнуло: Вера с постояльцем подали заявление в загс. Во всех очередях шушукались, обсуждали новость.
Но - сплетни пошумели, пошумели, да и иссякли, а на свадьбе у Веры гуляла вся редакция «Светлого истока». Вера была в голубом платье и с белым бантом в волосах.
И стала она с того дня мужняя жена, Вера Игнатьевна.
Первый месяц народ по выходным валом валил в баню, на новую Веру Игнатьевну поглядеть. А еще через пару месяцев она банщицей работать не стала. На ее место поставили Ирку Тарасиху, рыжую худую девчонку — бабка ее слезно просила пристроить куда-нибудь, чтобы не сбилась с пути.
И вскоре опять село дружно всплеснуло руками: Вера-то лежит на сохранении.
Она стала совсем другая.
С тех пор, как она проснулась у себя за занавеской мужней женой, проснулась раньше его и долго смотрела, как он спит — круглолицый, с пухлыми губами, мягкий весь, с лысинкой на темечке — днем он ее прикрывал прядкой откуда-то из-за уха, а теперь прядка откинулась на подушку и все стало видно, с той самой утренней минуты она поднялась со своей кровати совсем другая.
Она не верила своему счастью, когда сидела напротив за столом и глядела, как он ест, когда провожала его рано утром в командировку в колхоз — для нее это звучало все равно как «в космос»; она затихала на кухне, когда он, отодвинув на круглом столе вазу с искусственным букетом, садился писать — это занятие было для нее и вовсе из области фантастики.
Он мало говорил с ней о своих делах, приходил чаще всего поздно, читал газеты, писал. Ее минуточки были, пока он ел то, что она настряпала. Ну, и в конце концов, все равно ведь шел к ней за цветастую занавеску — не целую же ночь писать.
Вообще-то он был не очень прыток за занавеской. Веру это огорчало, по правде сказать. А до того, как все свершилось, он приличное время не проявлял инициативы, в отличие от других, которых — нет, не так уж много было в ее жизни. Сколько Вера пыталась поймать его взгляд, хоть бы слегка заблестевший, когда она нечаянно сталкивалась с ним в дверном проеме или доставала чашку с самой высокой полки в посуднике. Нет. Он был вежливый, обходительный, но не более того. Вера, впрочем, тоже ведь не была никакой хищницей, чтобы выслеживать мужика, а потом запускать в него когти по самый хребет. Если бы так — давно бы захомутала кого-нибудь. Хитрости в ней не было ни на грамм. Но этот постоялец ей приглянулся, правда. Ей показалось, что он бесприютный какой-то, одинокий, озябший. Вере хотелось его обогреть. Не молоденький уже, а один. Что там у него было — до того, как он приехал к ним в райцентр, она не знала, да и знать не хотела.
Она хотела, чтобы он пришел к ней в баню, посмотрел, как она там всем нужна, какой у нее там во всем порядок. Ему бы понравилось. Но он в баню не ходил, а мылся по субботам у своего сослуживца, который жил в «городской» квартире с удобствами. Таких домов в райцентре было построено уже четыре — с удобствами, но жильцы, несмотря на наличие ванной, все равно ходили в баню. А постоялец не ходил.
И она его однажды пригласила сама.
— Не люблю я, когда много народу...— отказался сначала он.
— А ты приходи попозже, когда никого не будет, — робко сказала она.
— Никого не будет — и баню закроют, — возразил он.
— Не закроют. Кто закроет-то? Я и закрою, когда захочу... Давай, приходи в воскресенье, я пораньше всех разгоню. В одиннадцать часов приходи. Никого уж не будет.
Он и пошел. Он шагал по трапам к бане против потока распаренных людей. И некоторые вежливо предупреждали:
— Слышь, мужик, не ходи, уже закрыто, сегодня рано закрыли...
Оглянувшись по сторонам, он нерешительно открыл тяжелую дверь и вошел.
Пахнуло влажным теплом и запахом березового веника. Никого действительно не было. Он шагнул к двери с табличкой «Мужское отделение» и вошел в предбанник. В глубине перед ним в мутном парном воздухе виднелась еще одна дверь, и за ней слышно было, как кто-то гремит железными тазами.
Дверь распахнулась, и в клубах пара в молочно-белом проеме появилась Вера — простоволосая, в тонком ситцевом платье и резиновых тапочках на босу ногу. Платье было влажное от пара и облепляло худенькую Верину фигурку.
— Пришел? — радостно улыбаясь, сказала она. — Ну, раздевайся да проходи, не бойся.
Она все уже намыла в мужском отделении, тазики сверкающей горкой стояли в углу на лавке, и только в одном напревал запасенный с лета березовый веник...
То, что хотела больше всего для своего постояльца Вера, умещалось в одном слове — согреть. И баня для этого подходила лучше всего. Баня, где она была хозяйка, где чувствовала себя уверенной.
Намытый райцентр спал беспробудным сном, и никто не мог помешать действу, происходившему в ночи на окраине села, у самого леса, в пустой жаркой бане.
Весь свой богатый опыт мытия — от младенцев до молодух, которым все мало, сколько ни охаживай веником по спине, — применила Вера на госте своем дорогом, таком дорогом, какого она и ожидать не смела в своей бане.
Ох, она его напарила! Упарила мужика. Не охолонул и за долгую дорогу по морозным ночным пустынным улицам.
И уложился, как миленький, за занавеску... Настасья спала, не слышала ничего. А когда утром встала, увидела. Ничего не сказала.
Ну, да это все дело прошлое. Теперь стала Вера мужняя жена.
Она и ходила теперь совсем по-другому, и не смеялась громко, запрокинув голову. Будто боялась чего-то расплескать, спугнуть, расстроить. Тихое достоинство звучало теперь в ее голосе, сдержанность светилась в глазах, скрадывая то, что там неистово блестело и брызгало бы во все стороны, если бы не окорачивать все время себя. Так тонкие занавески на окне скрывают то, что внутри дома. Там, внутри дома светло, а снаружи ничего не увидишь, и не заглядывай. Эта сдержанность стала теперь ее новой чертой. Ей казалось, что если она, как прежде, захохочет ли заболтается с кем-то, — хотя уже теперь-то с ней куда как много было охотниц поболтать, интересно ведь, как это она корреспондента себе отхватила, да еще и, гляди-ка, пузо себе заимела в сорок-то с лишним, так вот, ей казалось, что если она что-то такое сделает, то завтра же проснется одна за своей ситцевой занавеской.
Тем временем положение ее подходило к сроку. И вот однажды ночью, проснувшись от какого-то внутреннего толчка, она почувствовала, что началось. Пока растолкала своего мужика, пока он спросонья сообразил, в чем дело, пока они добрели лесочком, то и дело останавливаясь, до больницы, она уже не видела света Божия от боли и ужаса.
Бегала дежурная акушерка, звякали тазы и ведра, охала санитарка, выглядывали из палат испуганные мамаши... Что-то там у нее не получалось. И раздирающие надвое приступы боли никак не разрешали ее чрева от бремени.
Конечно, будут потом ругать врачей: надо было сразу делать кесарево, чего тут ждать, когда бабе за сорок, и первые роды. Да и говорили, что у нее узкий таз. И кости уж закаменели, разве можно...
Пока сбегали за хирургом, пока он пришел, то да се... Девочку, беленькую, пухленькую, хорошенькую, достали неживой.
Он приносил фотокарточку в редакцию. Как куколка, вся в бантиках, кружевах и цветочках, лежала малютка в крошечном гробике. Все жалели ее и мать. Он тоже, видно было, жалел, сильно.
Вера же сразу, как сказали про девочку, поняла, что все кончилось. Еще она не проснулась одна за занавеской, еще он сидел рядом с ее койкой в больнице и неуклюже гладил сквозь одеяло ее по плечу, и слезы блестели у него на глазах, она все равно знала, что все кончилось. И покорно ждала — когда. Потому что винила во всем себя. Не могла родить. Мужику к пятидесяти, ни семьи, ни детей никогда не было. Он на ней женился, брюхо ей нажил. А она не могла родить. Лучше бы она в городе легла в больницу до времени. Не хотела его одного оставлять. Вот теперь оставила — и его одного, и себя одну.
Он уехал из райцентра так же незаметно, как и появился два года назад. Не сразу уехал. Пока Вера поправилась, пока отошла на опавшем ее лице желтоватая бледность.
Все ее очень жалели. Все-таки, как ни говори, была бы жива девочка, все бы легче ей было, хоть и без мужика. Все почему-то были уверены, что корреспондент бы ее все равно бросил рано или поздно.
Никто не думал про корреспондента, что для него эта маленькая девочка, тоже, быть может, была надеждой, последней соломинкой, что с ее рождением он очень надеялся изменить свою жизнь. Никто ведь ничего не знал про него. Вера, и та толком не знала. Вот он упал к ней за занавеску, а откуда — какая разница, наверное, с неба...
Редактор знал, откуда. Ведь он его брал на работу. Только говорить про это ни в коем случае было нельзя. Во-первых, стыдно, а во-вторых, в райцентре про такое и не слыхивали, все равно ничего не поняли бы, слишком долго бы пришлось объяснять. Зачем? Да и человека жалко. Он ведь и так страдает всю жизнь. А работник-то хороший.
Это теперь они свою «особенность» напоказ выставляют, а в то время про такое и говорить стыдились. Ну, в общем, сидел человек. По нехорошей статье. Когда вышел, решил заехать подальше от прежних мест, решил попробовать как все — семья, жена, ребенок. Не получилось.
Накануне отъезда он купил бутылку и пошел к редактору. После какой-то там рюмки прошибло мужика — плакал и все повторял: была бы девчонка жива, жил бы ради нее, не молодой ведь. А так — нет. Вера тут ни при чем, не может он с женщиной, хоть ты что делай.
Так вот и огорошил начальника. Тому дивно тоже было — как это так: не может он с женщиной. Ну, по молодости, по глупости — чего не бывает. Теперь уж можно и забыть, не мальчик. Лысый вон уже.
Да, видно, не все можно стереть из жизни. Как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают…
Ну, и уехал. Редактор его день в день уволил, месяц отрабатывать не заставил. Такое дело, что ж...
Бедная, бедная Вера пошла работать в прачечную — ее как раз недавно отстроили рядом с баней, бревенчатую избу. Поставили машины большие. Вера даже ездила в город учиться на две недели.
Но не успел местный люд приучиться носить свое белье в прачечную, как она сгорела однажды ночью вместе с машинами.
Вера заподозрила в этом событии какой-то совсем не добрый для себя знак. Но знак был — не сказать, чтобы очень добрый, но и не совсем уж злой.
Ирка, та, которую поставили банщицей, пока Вера ходила замуж, загуляла и уехала за кем-то в город. Вот ведь тоже — рыжая, вся в веснушках, худющая, как доска, с вечно мокрым смеющимся ртом, но все это ничуть не мешает ей гулять — теперь бабы об нее языки чешут. Вот, на тебе, усвистала в город, баню обихаживать некому. Да и когда была, так все равно, что не было. Одни жалобы — и грязно, и грубит, и на работу опаздывает. В общем, баня совсем не та.
И позвал Веру начальник коммунхоза: иди-ко, Вера Игнатьевна, опять в баню, у нас тут без тебя проруха.
И пошла она в баню. И опять все стало, как было. Она все уберет, намоет, тазики с содой надраит, кипяточком обдаст и сидит у себя в загородке с окошечком, билеты у нее наготове. И все к ней идут...
А замуж-то этот был ли на самом деле, или приснилось ей все? И постоялец этот, и девочка беленькая, вся в цветочках и кружавчиках?
Она бы согласилась, что все это был сон.
Только вот шрам... Поглядишь и вспомнишь — нет, не сон...
English: Wikipedia is making the site more secure. You are using an old web browser that will not be able to connect to Wikipedia in the future. Please update your device or contact your IT administrator.
中文: 维基百科正在使网站更加安全。您正在使用旧的浏览器,这在将来无法连接维基百科。请更新您的设备或联络您的IT管理员。以下提供更长,更具技术性的更新(仅英语)。
Español: Wikipedia está haciendo el sitio más seguro. Usted está utilizando un navegador web viejo que no será capaz de conectarse a Wikipedia en el futuro. Actualice su dispositivo o contacte a su administrador informático. Más abajo hay una actualización más larga y más técnica en inglés.
ﺎﻠﻋﺮﺒﻳﺓ: ويكيبيديا تسعى لتأمين الموقع أكثر من ذي قبل. أنت تستخدم متصفح وب قديم لن يتمكن من الاتصال بموقع ويكيبيديا في المستقبل. يرجى تحديث جهازك أو الاتصال بغداري تقنية المعلومات الخاص بك. يوجد تحديث فني أطول ومغرق في التقنية باللغة الإنجليزية تاليا.
Français: Wikipédia va bientôt augmenter la sécurité de son site. Vous utilisez actuellement un navigateur web ancien, qui ne pourra plus se connecter à Wikipédia lorsque ce sera fait. Merci de mettre à jour votre appareil ou de contacter votre administrateur informatique à cette fin. Des informations supplémentaires plus techniques et en anglais sont disponibles ci-dessous.
日本語: ウィキペディアではサイトのセキュリティを高めています。ご利用のブラウザはバージョンが古く、今後、ウィキペディアに接続できなくなる可能性があります。デバイスを更新するか、IT管理者にご相談ください。技術面の詳しい更新情報は以下に英語で提供しています。
Deutsch: Wikipedia erhöht die Sicherheit der Webseite. Du benutzt einen alten Webbrowser, der in Zukunft nicht mehr auf Wikipedia zugreifen können wird. Bitte aktualisiere dein Gerät oder sprich deinen IT-Administrator an. Ausführlichere (und technisch detailliertere) Hinweise findest Du unten in englischer Sprache.
Italiano: Wikipedia sta rendendo il sito più sicuro. Stai usando un browser web che non sarà in grado di connettersi a Wikipedia in futuro. Per favore, aggiorna il tuo dispositivo o contatta il tuo amministratore informatico. Più in basso è disponibile un aggiornamento più dettagliato e tecnico in inglese.
Magyar: Biztonságosabb lesz a Wikipédia. A böngésző, amit használsz, nem lesz képes kapcsolódni a jövőben. Használj modernebb szoftvert vagy jelezd a problémát a rendszergazdádnak. Alább olvashatod a részletesebb magyarázatot (angolul).
Svenska: Wikipedia gör sidan mer säker. Du använder en äldre webbläsare som inte kommer att kunna läsa Wikipedia i framtiden. Uppdatera din enhet eller kontakta din IT-administratör. Det finns en längre och mer teknisk förklaring på engelska längre ned.
हिन्दी: विकिपीडिया साइट को और अधिक सुरक्षित बना रहा है। आप एक पुराने वेब ब्राउज़र का उपयोग कर रहे हैं जो भविष्य में विकिपीडिया से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कृपया अपना डिवाइस अपडेट करें या अपने आईटी व्यवस्थापक से संपर्क करें। नीचे अंग्रेजी में एक लंबा और अधिक तकनीकी अद्यतन है।
We are removing support for insecure TLS protocol versions, specifically TLSv1.0 and TLSv1.1, which your browser software relies on to connect to our sites. This is usually caused by outdated browsers, or older Android smartphones. Or it could be interference from corporate or personal "Web Security" software, which actually downgrades connection security.
You must upgrade your web browser or otherwise fix this issue to access our sites. This message will remain until Jan 1, 2020. After that date, your browser will not be able to establish a connection to our servers.
Как же мне не хватает бани в своей жизни. Баня!
Это же был смысл просыпаться в понедельник и знать, что вечером сядем с девчонками в машинку, соберем в сумки разных мазилок и кремов, и рванем на два часа в наш уютный подвальчик.
Там все были красавицы, не смотря на разные комплекции. Там можно узнать все секреты похудения и омоложения.
В бане было столько историй!
Каждый раз, возвращаясь из бани мы говорили друг другу - надо записывать, это надо записывать!
И ничего, ни клочка не осталось от тех историй, от которых мы ржали до слез, удивленно поднимали брови, смущались и даже краснели, списывая все на жар и пар.
Вы знаете, что такое банные истории?
Возможно во всем виновата температура, выводящая из тела токсины вместе с потом. (а заодно и мозги)
Заходя в баню (женскую баню), женщины сбрасывая белье, украшения и стеснительность начинают рассказывать все, выводя шлаки разочарований и демонстируя свою силу и уверенность, граничащую с беззащитностью. Пряча собственные страхи от неумолимо надвигающейся старости, бахвалясь перед подругами - Мы еще огого! Посмотрим кто кого!
Но парочку я все же вспомнила.
Зачем девушки идут в баню? Не с мужиками конечно, а толпой баб - человек пять -восемь.
Париться и омоложаться. И в ход идут совершенно разные средства: от невероятно дорогих масок с соком гуавы и спермой обезьян, до старого прокисшего майонеза.
Так вот, о нем, о чудодейственном средстве, которое не всем знакомо, если рассмативать его с точки зрения косметического средства.
Майонез знатные красотки мажут на голову, чтобы волосы напитать - вместо масочки (уж не знаю чем там они питаются, но эффект от него, говорят, потрясающий).
Короче, одна из нас (не будем показывать пальцами, даже если бы это была и я...), намазала на голову майонез почти в конце парки, последний штрих, так сказать, чтобы потом смыть и помыть голову.
Намотала на голову пленку, пошла в сауну - прогреть все это хозяйство на голове. Но тут выключили воду - авария какая-то случилась, блин.
Из крана идет только холодная (мы ходили в баню затрапезную, в прямом смысле подпольную!). Конечно пришлось в полотенцах выскакивать в холодный коридор, звать дядечку охранника, который побег смотреть что случилось.
Представляете себе картинку: пять голых теть, замотанные в полотенца, одна с майонезом на голове, у другой маска из глины, третья тоже что-то прячет под пленкой в районе ягодиц...
А дядя проверяет что стряслось с горячей водой.
Так и бегал, то к нам, то в подвал.
Не починил. Пришлось ягодицы и маску с лица смывать холодной - не страшно! Такой себе контрастный душик вышел.
А вот с майонезом дело худо!
Пришлось ей ехать домой с масочкой на голове из непонятно-ароматной субстанции.
А дома муж...
Девушка приехала из бани (хорошо хоть авто собственное имеется и на трамвае не надо ехать) и шасть в душ!
Я не поооонял...
А вот еще вспомнила!
Кто не в курсе, что такое кайенский перец - тот не поймет до конца, что же случилось с одной из нас в далекие года, когда баня только (для меня) начиналась.
В смысле я тогда только приняла причастие присоседилась к компании теток-банщиц.
Короче, каждая из нас старалась притащить в сауну новое чудостредство для кожи или от ожирения целюлита.
Так в бане появилась масочка антицелюлитная, в состав которой и входил этот злосчастный перец.
Мазать ее нужно на проблемные места, потом заматываться пленкой и идти прогревать все это дело в горячей сауне.
Как только под пленкой все прогревалось, сразу же хотелось бежать куда подальше, только чтобы ледяной ветер развевался вокруг горящих адским пламенем ягодиц, ой, простите ног (каждый мазал свои проблемные зоны).
Короче, в применении этой термоядерной штуки были свои плюсы и нюансы. Эффект был хороший: уже лежа в чистой постельке, через несколько часов после вечерней баньки, я ощущала жар, разгоняющий на ляжках целлюлит.
При наружном употреблении сего средства нужно быть крайне осторожным. Потому что одна из подружек как-то неудачно промахнулась. И попала им сами понимаете куда.
Как она бегала, как бросалась в бассейн с ледяной водой, как верещала!
Маска действует втечении нескольких часов после смывания.
Она ее грела!
А мы ржали всю дорогу домой, вспоминая танцы голопопых дельфинов с выпученными глазами.
Что-то ностальгия замучила - пойду выбирать
БанькаВсю свою жизнь я провел в столице, лишь изредка выезжая с семьей на дачу, в деревню. О прелестях сельского бытия я знал немного. Хозяйка, у которой мы снимали дом в тверской деревне по Петербургскому шоссе, была крепкой русской женщиной - из тех, про которых писал Некрасов. Муж ее неделями не просыхал, она его за это нещадно била огромными гладкими и блестящими от регулярных упражнений с коровьим выменем руками, теми же, что вечерами в баньке у Волги гнала для него самогон. Весь двор и хозяйство держались на этой здоровой русской крестьянке и двух ее сыновьях - 19 и 14 лет. Мы жили у нее втроем - я, моя жена и наша дочь. Жена, опасаясь за дочь, неодобрительно посматривала на двух ее парней - младшего Павла и старшего Николая, недоумевая при этом, как от такого дрянного семени росли эти молодцы. И тот и другой были уже вполне оформившимися мужчинами, с нежной золотой порослью вокруг губ. Листая свежую почту, которую доставляли курьером из закрытого института, где я работал заместителем директора, я лежал часами под сенным навесом, наблюдая за, как мне казалось, нехитрой сельской жизнью.Жена с дочерью бродили по лесу, загорали у реки. Мне же хватало работы - я писал статью для научного журнала. Курьер, женоподобный юноша, появлялся через день. Я забирал у него бумаги, ограничиваясь скупыми приветствиями, но он обычно задерживался, о чем-то долго кокетничая с хозяйскими детьми. Из-под уютного навеса я смотрел вокруг в легком томлении, наслаждаясь миром. И все больше отвлекался, наблюдая за Павлом и Николаем. Был июль, средолетье* Межень - говорила хозяйка. С утра до позднего вечера вся семья была на сенокосе, каждый час к дому подъезжала груженая сеном телега. Николай, что постарше, умело правил тяжеловозом с вершины стога, а младший ездил на Резвом, такая у коня была кличка, без седла. Загорелые, серебряные от сенной пыли, блестящие от пота, капельки которого разлетались сквозь солнечные лучи, разноцветными брызгами, они казались мне героями античной мифологии. Я так и называл их в шутку - Гермес и Меркурий. Мать их интересовалась у меня о происхождении незнакомых для сельской речи имен. И, услышав, что владельцы их некогда служили богам, взяла шутливую привычку созывать ими своих парней к вечернему столу. Так и пошло по деревне - Гермес, Меркурий* Наблюдая за их работой, я все больше задерживался на всяких мелких подробностях, дотошно изучив все хитрости их монотонного труда, который, впрочем, не был им в тягость. До меня постоянно доносились полудетские-полумужские голоса, легкий мат - не в надрыв, а так - в сердечном русском разговоре, непонятные мне сальные шуточки, которые я про себя списывал на "переходный" возраст. А переходный возраст постоянно выдавало волнение в промежности. С легкостью они перекидывали сено с телеги под соседний с моим укрывищем навес. От физического труда напрягались все их члены. Широких суконных штанов словно и не было, зато их сильное возбуждение было на виду. От того, мне казалось, они работали с еще большим удовольствием. Мне даже как-то становилось жаль, что они еще не знают более легких способов возбуждения. Но я ошибался* Заканчивая работу, они шумно заваливались под соседний навес и отдыхали.
За редкой стенкой слышалась какая-то возня, визг, к которому я стал прислушиваться. И вскоре обнаружил в нем присутствие интонаций, знакомых по фильмам Кадино. Их привозил из командировок знакомый дипломат. Я имел гомосексуальный опыт - в армии, в многомесячных геологических экспедициях в молодости, да и с дипломатом мы не устраивали молчаливых кинопросмотров. Любопытство взяло свое, и, отыскав в сене, желанную щелку, я прильнул к ней. Мои Гермес и Меркурий лежали обнаженные, грудь младшего оказалась прямо у меня перед глазами: так, что я видел и слышал биение его сердца. - А где же старший? - подумал я и в это же мгновение увидел его ягодицы. Несложно было догадаться, что они загорают обнаженными. Павел сосал член своего брата. Я возбудился настолько, что, расстегнув шорты, стал рукой помогать себе, испытывая неожиданное удовольствие. Поначалу я даже испугался величины своего напряженного органа: чуть изогнутый в право, с багрово красной головкой, он напомнил мне плоды южноафриканского дерева "Бэн-гуали", которыми в одной из последних экспедиций мы пугали слабую половину отряда. Слабую четверть отряда - потому что на двенадцать крепких русских мужиков приходилось всего две женщины, одна из которых, известная эмансипе, уже не подходила для секса. Меня взбудоражили приятные впечатления о ночах в дешевой южноафриканской гостинице, где в ожиданиях проводника, я и двое моих сотрудников изощрялись в приемах искусственного возбуждения друг друга. Славик, недавний студент университета, принятый мною на работу по протекции отца, откосившего его армии, тогда проявил неожиданную слабость к нашим инструментам. Он делал фелляцию, как опытная французская проститутка, удивляя меня глубиной своей глотки, в которой каким-то образом мог уместиться мой чуть больше среднего размера половой орган. Эти воспоминания будоражили меня больше, чем увиденное за перегородкой сенного навеса, отчего я вскоре обильно кончил. Кто скажет, почему все семяизвержения заканчиваются так банально, почему наслаждение так скоротечно? Вот, кажется, удерживаешь его, свое наслаждение, в своих руках.
Но вот оно, в самый пик своего торжествования, когда, кажется, весь ты, все твое существо собирается в твоих нежных ладонях, игриво выскальзывает из приятного капкана, разбрызгивая вокруг струи горячей жидкости. В это мгновение ты уже не способен совладать с ним - теперь не ты, а оно заключает тебя в сладостную тюрьму бездонного наслаждения. А потом минутное забытье, и возвращение в остывающую реальность. Мои деревенские Гермес и Меркурий, закончив свои детские шалости, что-то бурно обсуждая, выскочили из под навеса, направились запрягать Резвого. Я стал приглядываться к ним еще с большим вниманием. Между двумя братьями явно существовало что-то большее, чем только кровная связь. Какая-то особая нежность обращала на себе внимание, когда Николай подсаживал младшего Павла на лошадь, когда из его курчавых пепельных волос он осторожно вынимал сенной сор, когда с улыбкой поправлял сползающие с талии и обнажающие перси ягодиц просторные суконные брюки... Близился вечер. Провожая взглядом отъезжающую
телегу на фоне закатывающегося за далекий лес солнечного диска, я вдруг представил себе древнегреческую колесницу, и Гермеса с Меркурием - свиту, сопровождающую громовержца. Телега медленно спускалась к реке, лошадь была не видна за высокой травой, и только младший Павел - мой воображаемый Гермес в своих золотых крылатых сандалиях парил у земли. Вскоре жена с дочерью вернулись с реки. Вечер прошел в мелкой суете, утихшей около полуночи. В поисках деревенской экзотики мы улеглись спать на верхнем сеновале, внизу под сеном в хлеву хозяйка еще долго доила коров. Я затащил лестницу под крышу и расположился у дверцы. За что я люблю эти летние ночи - так это за звезды. В это время в Средней России темнеет поздно. Ярко-красный диск луны долго весит у горизонта и медленно поднимается, постепенно засветляя звезды. Но сегодня не они и не чарующий пейзаж - Волга с лунной дорожкой - были причиной моей бессонницы. Я думал о хозяйских детях, я наблюдал за ними. По течению до Твери Волга быстринами спускается с Валдайских гор, плутая меж многочисленных холмов, изредка замедляя свой ход.
И здесь был такой омут, хорошо видный в бинокль с возвышения сеновала. Туда и направились искупаться перед сном Павел и Николай. Как мне и хотелось, как я внутренне и предполагал, купались они обнаженными, как и днем - не скупились на возбуждающие прикосновения. Сейчас, из своего укрытия, я мог, не стесняясь, любоваться их сложением. Оба они были в том возрасте, когда сквозь мягкие юношеские черты все сильнее проступает грубое мужское содержание. Эта неуловимая текучесть, которая вскоре будет утрачена навсегда, очень привлекает мужчин в молодых мужчинах. Оставаясь по своей природе эгоистами, мы любим в них ту часть самих себя, которую нещадно смывает ход времени, мы любим ту нежность, которую следуя общепринятым законам, уничтожаем в себе.Я наблюдал, я любовался их еще резкими чувственными движениями, но уже мужской хладнокровной осанкой, но более всего правильностью линий, слагающих их тела. Все это доставляло мне удовольствие иного рода, чем то, что я испытал сегодня днем. Какое-то новое чувство поселилось во мне: рука с биноклем дрожала, дыхание стало отрывистым, в груди возникло приятное тепло, жар, огонь, жжение. На мгновение я ушел в себя, а очнувшись, почувствовал горячую влагу в промежности.Мои Гермес и Меркурий уже возвращались и, проходя мимо сеновала, пожелали спокойной ночи. Мне показалось, что какая-то новая интонация прозвучала для меня в их голосах. Уснул я сразу, а проснувшись уже к полудню, как и вчера, обнаружил записку от дочери и жены, отправившихся на весь день к реке зарабатывать сочинский загар, который я им не мог обеспечить этим летом, вынужденный руководить институтом. Позавтракав и пообедав, я вновь расположился под сенным навесом с какими-то документами, но не они интересовали меня. Я терпеливо ждал скрипа телеги, распаляя себя воспоминаниями о вчерашнем. Я ловил себя на запретных мыслях о том, что мне хотелось бы прикоснуться к их телам, мне хотелось сделать с ними то же, что они сделали с собой. Я был одержим и не стыдился даже мысли о том, как мог бы ласкать их члены, касаться их свежих губ, пахнущих парным молоком, вдыхать запах луговых трав, смешавшийся с терпким ароматом их тел.
Я был пьян от мыслей о возможности лишь прикоснуться к одному из них. Я был смущен необходимостью по привычке поприветствовать их за руку - за мягкую младенческую руку, которая, может быть, мгновение назад касалась их юных чресел. Но предрассудки отступили перед одним желанием обладать, иметь возможность прижать это тело к себе, к своим губам, принять его в себя. Я готов был излиться, как услышал, увидел приближавшуюся телегу и моих юных соблазнителей, вид которых протрезвил меня. Не знаю, почему я так расчувствовался, - их красотой можно было восторгаться и рассудочно. Делая вид, что занят бумагами, я внимательно наблюдал за тем, как они разгружали сено. А когда удалились на отдых в соседний навес, в трепетном ожидании прижался к щели в стене. В начале все повторилось как и вчера, хотя меня тревожило чувство, что мой Гермес и Меркурий сегодня как бы очень просто доступны мне, они словно демонстрировали мне все свои достоинства. Младший брат сосал у старшего, который прижимался к стенке так, что вот-вот я мог достать до нежной кожи его ягодиц рукой, губами. И я не выдержал, все это время возбуждая себя руками, я коснулся языком его нежной кожи. Но ничего не произошло - они продолжали любить друг друга. Продолжил и я. Когда все закончилось, я, отдыхая, корил себя за неосмотрительность моего поступка, поглядывая в щель на притягательные тела братьев. Но это было еще не все. В доске, разделяющей навес, была большая округлая дыра - от вывалившегося сука. В нее кто-то из братьев и просунул свой половой орган - я не мог отказаться от мучавшего меня желания. До сих пор у меня сосали, брали в рот, но я сам никогда не позволял делать этого, считая подобное ниже своего достоинства, но как я ошибался. Те впечатления, которые мне пришлось испытать, трудно описывать. Я коснулся губами мягкой остывающей после недавней эрекции плоти, почувствовав едва уловимый запах детства, в котором перемешиваются и радость, и горечь былого. Удивительно нежное создание стало расти у меня внутри, подниматься, заполняя меня. Я стал бороться с этим вселившимся в меня существом языком, я стал умолять его не входить в меня, лаская.
Но оно рвалось внутрь упрямо и дерзко, погружаясь глубже и глубже. И излилось в меня. Я думал, что это все. Но нет. Второй, совсем маленький, уже успокоившийся член показался в дырке. Я, слово в наркотическом опьянении, вобрал его в себя, стал лизать. И он, спустя мгновение, оросил мои губы приятной на вкус жидкостью.Сегодня это повторилось еще два раза. Оставшуюся неделю я прожил в деревне с негласном договоре между мною и хозяйкиными сыновьями. Разгрузив сено, они приходили в соседний навес, просовывали свои члены в дырку и я принимал в себя все, что они хотели отдать мне. Между нами установилась особая связь: мы не разговаривали друг с другом о происходившем, но много беседовали о жизни, я рассказывал им о столичных тусовках, приглашая в Москву, и даже обещал протекцию. Они поражали меня своей простотой и в то же время особым деревенским этикетом, молчаливым вниманием и уважением ко мне - столичному ученому. Меня уже нисколько не тревожили осуждаемые обществом наши с ними отношения. Я знал, что это никому не станет известно, и, как ленивый русский интеллигент, предавался дармовым развлечениям, забросив всякие дела. Целый день я ждал их приездов с сеном, и они, иногда, забывая о сене, сразу поднимались ко мне - и уже без всяких перегородок отдавали мне свои хуи. За несколько дней я изрядно поднаторел в оральном сексе, и чувствовал себя профессионалом. Но вскоре нужно было уезжать. День расставания нисколько не тяготил меня, я понимал всю несерьезность и чреватость последствиями моего увлечения. Хотя Борис Ельцин и отменил 121-ую статью, положение его было еще не столь уверенным, чтобы не опасаться возможности возвращения коммунистов. День нашего отъезда совпал с концом сенокоса, и хозяйка по этому поводу собралась топить баньку. Издали банька могла сойти за приличный трехоконный сельский домик в лесу у самой Волги. Дочь с женой, в ожидании новой сельской экзотики, отправились с хозяйкой в лес за можжевельником, вениками и какой-то травкой, муж ее, как всегда, приходил в себя, брошенный у коровьего хлева друзьями-собутыльниками.
Павел и Николай возились с баней: наносили воды с реки, растопили печь. А сейчас сидели со мной на скамейке под банным срубом, шутили, вдыхая горький дым березовой коры, пошедшей на растопку. Я же думал только об одном - о последней возможности прикоснуться к этим юным телам. Прежде я ни разу не позволял себе проявить активность в наших отношениях: ко мне приходили они, и они отдавались мне. Но теперь я не мог удержаться и, смутившись, просунул между ног Павла свою ладонь, поглаживая его член. Николай, наблюдавший за нами, улыбнулся, и с какой-то издевкой сказал мне: "Да зачем. Погодите... Сейчас же баня будет!". И была баня. Николай, довольно ухмыляясь, встал напротив меня, запустив свою руку между ног, почесывая свое мужское достоинство, которое оказалось достаточно большим, чего я раньше не замечал. - Ложись на скамейку, Пашка!.. - сказал он брату, не отпуская с меня взгляда. Пашка лег, он подошел к нему сзади, звучно похлопав по его сочным ягодицам, и, вновь обращаясь ко мне, бросил:
А так можете? Я, с улыбкой, повел головой.
Ну, учитесь тогда! И начал совать свой вставший, как кол, член в жопу Павла. Лицо его выдавало вожделение, колени дрожали, тело Пашки двигалось в такт движению Николая, навстречу ему. Я вспомнил, что обыкновенно в этот момент делает третий в порнографических фильмах. Лег под Пашку с Николаем и стал поочередно ублажать их своим языком. Вдруг тела их дрогнули, и они одновременно, со стоном, кончили. После они парили меня веником - дубовым, можжевеловым, березовым, растирали меня какой-то целебной болотной грязью, сопровождая все легкими сексуальными шалостями. Попарившись, мы поднялись на полог и, помолчав, продолжили разговор. Я, уже без всякого стеснения, интересовался у них их сексуальными увлечениями.
А чего, - удивлялся Николай, - у нас все на селе так трахаются, чего дрочить-то, если рядом натура есть. У нас всегда так - пока не спился и батька меня щупал, и дед батьку щупал. Младший должен старшего всем ублажать.
Ах вот как - младший старшего, - загорелось во мне, - ну так ублажи меня на последок.
Ну, что ж, - без доли смущения, с ухмылкой, выдал Николай, - валяйте, хотите - трахайте. И повернулся ко мне своими красивыми ровными ягодицами. Между золотистыми персями ягодиц, словно лоно цветка раскрылся нежно розовый анус, лишь кое-где он был опушен едва заметными тычинками. Я блаженно стал лизать это лоно любви, добиваясь от него ответа, ожидая что оно откроет передо мной свои лепестки, пропустив меня внутрь. Не выдержав сладострастной пытки, я вогнал свой орган в него. Николай испытал мгновенную боль, а потом и его и меня поглотило блаженство. Долго мы еще лежали в бане, умывая друг друга, как из-за стены вдруг раздался зычный голос хозяйки:
Ну чего там в бане, не угорели еще, еда стынет. В доме в красной избе нас ждал стол, накрытый по-деревенски щедро. Продукты, вместе и по отдельности, лежали горками - огурцы, помидоры, сметана, мед, блины и еще чего только не было.
Ну, как мои молодцы, в баньке, - интересовалась хозяйка у меня.
Да нечего - молодцы они у вас и так, да и в баньке тоже.
В баньке-то да, - стонал протрезвевший глава семейства из угла. И лишь краем глаза я заметил пристальный, с издевкой, взгляд жены, догадывавшейся по сплетням о моих экспедиционных увлечениях.
Да уж, банька-то тебе на пользу, - повторяя интонации хозяйки, бросила она. Но никто не мог догадаться, о чем шла речь. И мы принялись за богатую трапезу.
Солнце еще не встало, а Мишка уже был на Барсучьем бору. Там, километрах в трех от деревни, стоял пустующий домик серогонов. Мишка сделал еще ходку до деревни, притащил рыбацкие снасти и, вернувшись назад, замел еловым лапником свои следы.
Теперь он чувствовал себя в безопасности, затопил жаркую буржуйку, наварил картошки, с аппетитом поел.
Солнце стояло уже высоко, когда он отправился к реке ставить верши. С высокого берега открывалась неописуемая красота лесной речки, укрытой снегами. Мишка долго стоял, как зачарованный, любуясь искрящимся зимним миром. На противоположной стороне реки на крутом берегу стояла заснеженная, рубленая в два этажа из отборного леса дача бывшего директора леспромхоза, а ныне крутого бизнесмена –лесопромышленника. Окна ее украшала витиеватая резьба, внизу у реки прилепилась просторная баня. Дача была еще не обжита. Когда Мишка уезжал в Питер, мастера из города сооружали камин в горнице, занимались отделкой комнат. Теперь тут никого не было. И Мишка даже подумал, что хорошо бы ему пожить на этой даче до весны. Все равно, пока не сойдет снег, хозяевам сюда не пробраться. Но тут же испугался этой мысли, вспомнив, что за ним должна охотиться милиция.
Он спустился к реке, прорубил топором лед поперек русла, забил прорубь еловым лапником так, чтобы рыба могла пройти только в одном месте, и вырубил широкую полынью под вершу.
Скоро он уже закончил свою работу и пошел в избушку отдохнуть от трудов. Избушка была маленькой, тесной. Но был в ней особый лесной уют. Мишка набросал на нары лапника и завалился во всей одежде на пахучую смолистую подстилку, радуясь обретенному, наконец, покою.
Проснулся Мишка от странных звуков, наполнивших лес. Казалось, в Барсучьем бору высадился десант инопланетян, производящих невероятные, грохочущие, сотрясающие столетние сосны звуки. Мишка свалился с нар, шагнул за двери избушки.
Путана, путана, путана! - гремело и завывало в бору.- Ночная бабочка, но кто ж тут виноват?
Музыка доносилась со стороны реки. Мишка осторожно пошел к берегу. У директорской дачи стояли машины, из труб поднимались к небу густые дымы, топилась баня, хлопали двери, на всю катушку гремела музыка, то и дело доносился заливистый девичий смех.
У Мишки тревожно забилось сердце. Он спрятался за кустами и, сдерживая подступившее к горлу волнение, стал наблюдать за происходящим...
Он видел, как к бане спустилась веселая компания. Впереди грузно шел директор их леспромхоза, следом, оступаясь с пробитой тропы в снег и взвизгивая, шли три длинноногие девицы, за ними еще какие-то крупные, породистые мужики. Скоро баня запыхала паром.
Изнутри ее доносилось аханье каменки, приглушенный смех и стенания.
Наконец, распахнулись двери предбанника, и на чистый девственный снег вывалилась нагишом вся развеселая компания. Мишкин директор, тряся отвислым животом, словно кабан пробивал своим распаренным розовым телом пушистый снег, увлекая компанию к реке, прямо в полынью, где стояла Мишкина верша.
Три ображенные девицы оказались на льду, как раз напротив Мишкиной ухоронки. Казалось, протяни руку и достанешь каждую.
От этой близости и вида обнаженных девичьих тел у Мишки, жившего поневоле в суровом воздержании, закружилась голова, а лицо запылало нестерпимым жаром стыда и неизведанной запретной страсти.
Словно пьяный, он встал, и, шатаясь, побрел к своему убогому пристанищу. А сзади дразнил и манил волнующе девичий смех и радостное повизгивание...
В избушке смолокуров он снова затопил печь, напился чаю с брусничным листом и лег на нары ничком, горестно вздыхая по своей беспутной никчемной жизни, которая теперь, после утреннего заявления по радио, и вовсе стала лишена всякого смысла.
Мишка рано остался без родителей. Мать утонула на сплаве, отец запился. Сказывают, что у самогонного аппарата не тот змеевик был поставлен. Надо было из нержавейки, а Варфоломей поставил медный. Оттого самогонка получилась ядовитая.
Никто в этой жизни Мишку не любил. После ремесленного гулял он с девицей и даже целовался, а как ушел в армию, так тут же любовь его выскочила замуж за приезжего с Закарпатья шабашника и укатила с ним навсегда.
А после армии была работа в лесу, да пьянка в выходные. Парень он был видный и добрый, а вот девиц рядом не случалось, остались в Выселках одни парни, девки все по городам разъехались. Тут поневоле запьешь! Уж лучше бы ему родиться бабки Саниным козлом! Сидел бы себе на печи да картошку чищеную ел. Ишь, в кабинете ему студено!
Мишке стало так нестерпимо жалко самого себя, что горючая слеза закипела на глазах и упала в еловый лапник.
Ночью он вышел из избушки, все та же песня гремела на даче и стократным эхом прокатывалась по Барсучьему бору:
«Путана, путана, путана,
Ночная бабочка, но кто ж тут виноват?»
Столетние сосны вздрагивали под ударами децибелл и сыпали с вершин искрящийся под светом луны снег. Луна светила, словно прожектор. В необъятной небесной бездне сияли лучистые звезды, и, ночь была светла, как день.
Мишку, будто магнитом, тянуло опять к даче, музыке и веселью. И он пошел туда под предлогом перепроверить вершу. Ее могли сбить, когда ныряли в прорубь, или вообще вытащить на лед.
Директорская дача сверкала огнями. берега Мишка видел в широких окнах ее сказочное застолье, уставленное всевозможными явствами. Кто-то танцевал, кто-то уже спал в кресле. Вдруг двери дачи распахнлись, выплеснув в морозную чистоту ночи шквал музыки и электрического сияния.
Мишка увидел, как кто-то выскочил в огненном ореоле на крыльцо, бросился вниз в темноту, заскрипели ступени на угоре, и вот в лунном призрачном свете на льду реки он увидел девушку, одну из тех трех, что были тут днем. Она подбежала к черневшей полынье, в которой свивались студеные струи недремлющей речки, и бросилась перед ней на колени.
Мишка еще не видывал в жизни таких красивых девушек. Волосы ее были распущены по плечам, высокая грудь тяжело вздымалась, и по прекрасному лицу текли слезы.
Вновь распахнулись дачные двери, и на крыльцо вышел мужчина:
Марго! - крикнул он повелительно.- Слышишь? Вернись! Видимо, он звал девушку, стоявшую сейчас на коленях перед полыньей.
- Маля! - повторил он настойчиво,- Малька! Забирайся домой. Я устал ждать.
Девушка не отвечала. Мишка слышал лишь тихие всхлипывания. Мужчина потоптался на крыльце, выругался и ушел обратно. Девушка что-то прошептала и сделала движение к полынье.
Мишке стало невыносимо жалко ее. Он выскочил из кустов и в один миг оказался рядом с девицей.
Не надо! - сказал он деревянным голосом.- Тут глубоко. Девица подняла голову.
- Ты кто? - спросила она отрешенно. От нее пахло дорогими духами, вином и заграничным табаком.
- Мишка,- сказал он волнуясь.
- Ты местный?
- Живу тут. В лесу,- все так же деревянно отвечал Мишка. Девица вновь опустила голову.
- А я Марго. Или Маля. Путана.
- Это, стриптизерша, что ли?
-Да нет. Путана.
Мишка не знал значения этого слов и решил, что путана - это фамилия девицы.
Ты, это, не стой коленками на льду-то,- предупредил Мишка.- А то простудишься.
Девица вдруг заплакала, и плечи ее мелко задрожали. Мишка, подавив в себе стеснение, взял ее за локотки и поставил рядом с собою.
Слышишь, Мишка,- сказала она вдруг и подняла на него полные горя прекрасные глаза.- Уведи меня отсюда. Куда-нибудь.
И Мишка вдруг ощутил, что прежнего Мишки уже нет, что он весь теперь во власти этих горестных глаз. И что он готов делать все, что она скажет.
У меня замерзли ноги,- сказала она.- Погрей мне коленки. Мишка присел и охватил своими негнущимися руками упругие колени
Мали. Ноги ее были голы и холодны. Мишка склонился над ними, стал согревать их своим дыханием.
Пойдем,- скоро сказала она.- Уведи меня отсюда скорее...
Они поднялись по тропе в угор. Неожиданно для себя Мишка легко подхватил ее на руки и понес к своему лесному зимовью. А она охватила его руками за шею, прижалась тесно к Мишкиной груди, облеченной в пропахшую дымом и хвоей фуфайку и затихла.
Когда Мишка добрался до избушки, девушка уже глубоко спала.
Он уложил ее бережно на укрытые лапником нары и сел у окошечка, прислушиваясь к неизведанным чувствам, полчаса назад поселившимся в его душе, но уже укоренившимся так, словно он вечно жил с этими чувствами и так же вечно будет жить дальше.
Маля чуть слышно дышала. Ночь была светла, как день. За окошком сияла прожектором луна.
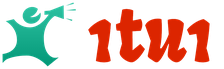
 Вход
Вход